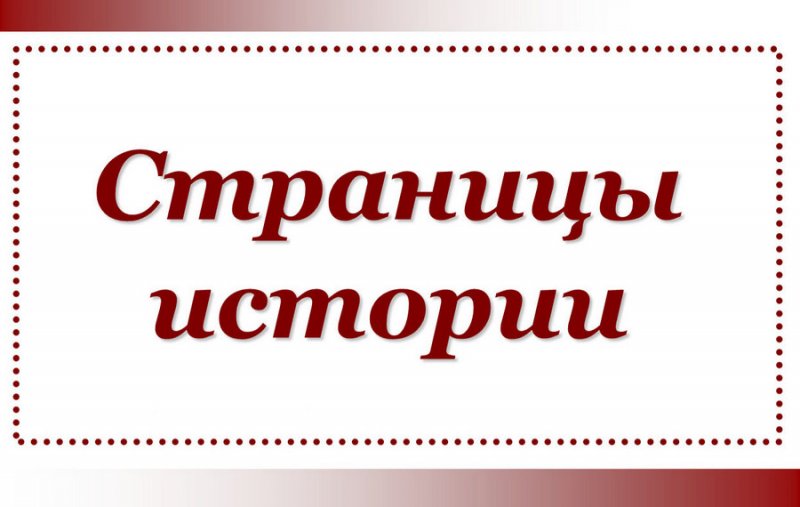Одной из болезненных и дискуссионных проблем современного кавказоведения является вопрос об этапах, времени и характере присоединения народов Северного Кавказа (горских народов) к России.
Споры о времени присоединения народов Северного Кавказа начинаются с того, что одни авторы пытаются привязать этот процесс к конкретной дате: 1781 г. для чеченцев (концепция В.Б. Виноградова о «добровольном вхождении Чечни в состав России»), 1770 г. для ингушей, 1557 г. для кабардинцев и т.д. Но при этом у других авторов возникают контраргументы: что считать «присоединением»? Сам акт о принятии под покровительство России того или иного народа? Но тогда и чеченцы могут поставить вопрос о том, что они вошли в состав России в 1588 г. Ведь именно в том году первое чеченское посольство посетило Москву и русский царь в 1589 г. подписал грамоту о принятии чеченцев под покровительство России. Но ведь в той же Кабарде вплоть до второй половины XVIII в. не было российской администрации, не действовали российские законы, а все российско-кабардинские отношения сводились к далеко не регулярным, эпизодическим политическим, экономическим и культурным актам. То же самое можно сказать об Ингушетии, Чечне, Дагестане. Может быть, ученым-гуманитариям, отбросив в сторону политико-экономические соображения (на празднования юбилеев присоединения федеральным центром выделялись немалые финансовые средства), прийти к какому-то консенсусу относительно самого понятия «присоединение» того или иного народа к России?
Если взять, для сравнения, процесс установления власти Англии, Франции, Германии, Португалии, Испании в афро-азиатских странах, то там, сразу же после захвата той или иной территории, устанавливалась прямая или косвенная власть метрополии, обозначались налоги и повинности местного населения и т.д., то есть устанавливались колониальные порядки. Но дело-то как раз в том, что северокавказские территории не были «обычными» колониями. А ряд авторов вполне обоснованно ставят вопрос о том, что они вообще не были колониями России.
Российско-горские отношения, российско-горский союз, сложившийся в XVI—XVIII вв., были результатом взаимного притяжения, взаимной заинтересованности. Россия в силу своих геополитических и стратегических интересов, на пути превращения в великую державу, была крайне заинтересована в утверждении своего влияния на Северном Кавказе. Для этого, в условиях острой борьбы с Турцией и Ираном за регион, Россия нуждалась в союзе с горцами. Сами же горцы также были заинтересованы в торговоэкономических отношениях с Россией и нуждались в ее помощи для отражения постоянных нападений крымских татар, Османской империи и Ирана. В результате этой взаимной заинтересованности в военно-союзнических отношениях горские делегации в XVI—XVIII вв. постоянно посещали Москву (где их принимали на самом высоком уровне) и российские административные центры на Северном Кавказе. Точно так же официальные российские представители были частыми гостями у горских владельцев и обществ. В результате и заключались различные соглашения о подданстве и покровительстве России над горскими народами, приносились соответствующие присяги «верности» со стороны горцев.
История взаимоотношений афро-азиатских народов и западноевропейских стран в XVI—XIX вв. носила иной характер. В тот период восточные народы, напротив, стремились всемерно отгородиться от европейского мира, контакты с которым в основном сводились к одному — вооруженным нападениям европейцев на различные части Азии и Африки.
У кавказоведов нет единства взглядов об этапах российско-горских взаимоотношений до XX в. По нашему мнению, многовековая политика России на Северном Кавказе может быть разделена хронологически на четыре этапа:
1) вторая половина XVI — конец XVII в., когда происходит закладка ее основ, намечаются стратегические цели, путем «проб и ошибок» идет поиск оптимальных форм и методов установления российского влияния в крае, форм взаимоотношений с местными народами, Россия закрепляется на дальних кавказских рубежах;2) XVIII в. — переходный период в кавказской политике России, когда она явственно начинает одерживать верх в борьбе с Турцией и Ираном за Северный Кавказ, а в отношениях с горцами происходит постепенный переход от «политики ласканий» к политике силового давления;3) первая четверть XIX в., когда российское правительство начинает устанавливать свое реальное господство на Северном Кавказе предельно жесткими, военно-силовыми методами, что явилось основной причиной Кавказской войны XIX в.;4) 1818—1864 гг., время российско-горской (Кавказской) войны, завершившееся окончательным присоединением Северного Кавказа к России, полным установлением здесь российского господства.
XVI — середина XIX в. — это время сложных, далеко не прямолинейных взаимоотношений между Россией и горскими народами, когда «помимо войн, грабительских набегов, оборонительно-наступательных союзов и контрсоюзов, существовали отлаженные торговые, политико-дипломатические, культурные связи на всех уровнях, династические браки, личная дружба и симпатии между правителями и пр. ... Граница между Российским государством и местными раннеполитическими образованиями находилась в подвижном состоянии, представляла собой не только линию вооруженного соприкосновения (даже в период Кавказской войны), но и своего рода контактно-цивилизационную зону, где развивались интенсивные хозяйственные, политические, личные (куначеские) связи. Шел процесс взаимопознания и взаимовлияния народов, ослаблявший вражду и недоверие.» [1, с. 129].
Своеобразными вехами в становлении и развитии политических отношений между Россией и горскими владельцами (или обществами) становилось подписание соглашений о верности и подданстве горцев России, в которых оговаривались, как правило, права и обязанности сторон. Как известно, первыми акт о вступлении в российское подданство подписали кабардинские феодалы. В 1558 г., в условиях резко возросшей турецкой угрозы Кабарде, они заключили с Москвой соглашение, ставшее «образцом для последующих договорных грамот, заключаемыми Москвой с северокавказскими феодалами» [2, с. 44].
В 1588 г. в Москве побывало и вайнахское посольство во главе с Батаем, которое просило Москву о подданстве и покровительстве. Xодатайство было удовлетворено, и «под власть Московского государства отошла очень важная в плане дальнейшего продвижения на Северный Кавказ и в Закавказье территория окоцкой (т.е. чеченской. — Г.Ш.) земли» [3, с. 15].
В течение XVII в. чеченские посольства неоднократно посещали Москву, развивая и укрепляя российско-чеченские отношения. Не ослабли эти связи и после смерти Петра I, когда российское правительство в целом потеряло интерес к кавказским делам (это будет продолжаться вплоть до воцарения Екатерины II). Россия не хотела терять своих позиций в Чечне, более того, стремилась их расширить и укрепить. Однако в Чечне в это время нет ярких политических лидеров. Нет и своих феодалов. (Это сложный вопрос: почему в Чечне даже к началу Х!Х в. не было своих феодалов и не было таких же относительно развитых феодальных отношений, как в соседних регионах — Кабарде, Осетии, Дагестане, Адыгее.
Нам представляется, что главная причина этого состояла в следующем: в XIII—XIV вв. в результате нашествия монголо-татар чеченцы были вытеснены в горы, где и находились, в большинстве своем, вплоть до XVIII в. В горах же, в условиях острейшей нехватки земли, не было никаких возможностей для развития производительных сил, для появления и развития новых, феодальных отношений. Вопрос стоял об элементарном выживании. В эти 400—500 лет чеченцы в общественно-экономическом развитии как бы «застыли» на одном уровне. А за это время проживавшие на равнине кабардинцы и другие соседние чеченцам народы в своем развитии ушли вперед. Российские же власти, устанавливая свое влияние над горскими народами, в первую очередь опирались на местных феодалов. В этих условиях (при отсутствии феодалов у чеченцев) российские власти стали насаждать в Чечне власть соседних феодалов, прежде всего, кабардинских и дагестанских — Айдемировых, Чапаловых, Турловых, Казбулатовых, Черкасских и пр. Закрепляя союз с ними, царские власти стали даже выплачивать им жалованье из казны — 50 рублей в год [4, с. 468]. Сами эти феодалы настойчиво стремились к сотрудничеству с российской администрацией, понимая, что без ее поддержки им не удержать свою власть над чеченцами. М.М. Блиев полагал, что уже с первой трети XVIII в. в Чечне создавалась «российская система управления» — «управление посредством дагестанских и кабардинских феодалов», и к середине XVIII в. она «обретала форму устойчивой доктрины» [5, с. 78]. К середине XVIII в. значительная часть чеченцев, учитывая выгоды торгово-экономических связей с русскими поселенцами, «обнаруживали относительную устойчивость в отношениях с Россией» [5, с. 68]. В 1747 г. российское подданство приняли жители крупнейших чеченских обществ — Чебутли, Шали, Герменчик и Алды. Видимо, В.А. Потто не без оснований отмечал, что к середине XVIII в. большая часть Чечни считалась в российском подданстве [6, с. 72].
В пророссийской ориентации для чеченцев главными стимулами были расширение торговли в российских пределах (крепостях и русских поселениях) и мирное сосуществование с русскими.
В XVI—XVIII вв. для чеченцев, в отличие от других горских народов Северного Кавказа, не существовало внешней угрозы. Ни Османская империя, ни Крымское ханство, ни Иран никогда не пытались захватить Чечню. Это объяснялось географическим положением Чечни, расположенной в середине Северо-Кавказского региона. Чтобы дойти до Чечни, Турции и Крымскому ханству надо было сначала захватить Кабарду. Как показала история, этого сделать они были не в состоянии. Наступательный, захватнический порыв иранцев разбивался героическим сопротивлением дагестанцев. Так что чеченцы стремились к союзу с Россией не из-за внешней угрозы, а из-за экономических, добрососедских соображений.
В XVIII в. торгово-экономические связи чеченцев с Россией и народами Кавказа, существовавшие с XVI в., значительно окрепли и расширились. Чеченцы были заинтересованы в дальнейшем закреплении отношений с Россией и в плане политическом. Тем более что в XVIII в. чеченцы начинают массово осваивать бассейн р. Терек, а при этом требовалось вступать в договорные отношения с представителями российской власти. В результате в 1780 г. целый ряд чеченских старшин вступили с российскими представителями в крае в переговоры о подписании новых соглашений о подданстве чеченцев России [7, л. 3]. В 1781 г. в сел. Чечен большинство старшин равнинных чеченских обществ подписали Договор о вступлении чеченцев в подданство России. Причем в преамбуле документа подчеркивалось, что чеченцы давно уже находятся в подданнических отношениях с Москвой. Согласно документу, в Чечне сохранялось «внутреннее самоуправление», но в качестве высшей власти здесь устанавливалось российское управление: «Владельцев наших почитать и во всем им повиноваться» [8, л. 22—23]. Однако в качестве представителей российской власти к чеченцам вновь назначались кабардинские и дагестанские князья. Тем самым российская администрация в крае показывала, что она не извлекла никаких уроков из прошлого опыта российско-чеченских взаимоотношений. Ведь именно с назначения соседних феодалов владельцами над чеченскими обществами началось охлаждение в русско-чеченских отношениях в начале XVII в. Чеченцы начиная с 1757 г. многократно восставали против феодалов-«варягов», изгоняли их из своих селений. Царские власти уже должны были понимать, что чеченцы абсолютно нетерпимы к иноземным феодалам. В этом были едины как рядовые общинники, так и нарождающаяся чеченская феодальная верхушка.
В то же время чеченцы, согласно ст. 9 Договора от 1781 г., получали право неограниченной торговли в русских пределах. Во многом именно ради этого чеченцы соглашались прекратить набеги на российские поселения, выдать аманатов и принять князей-«варягов».
Российская сторона считала, что с подписанием Договора 1781 г. вопрос о присоединении Чечни окончательно уже решен. Однако это было далеко не так. Чеченская сторона трактовала этот договор (как и все предыдущие) совсем по-иному. Чеченцы, как и горцы в целом, не воспринимали различные соглашения с Россией как действительное присоединение к ней, с соответствующими последствиями — потерей независимости, установлением российских порядков и т. д.
Договор 1781 г. о принятии равнинными чеченцами российского подданства можно было бы рассматривать как присоединение Чечни к России. Но, по нашему мнению, это был всего лишь этап, правда, весьма важный, в длительном процессе окончательного присоединения Чечни к России. Тем более что в 1807 г. эти же чеченские общества еще раз подпишут новый документ о принятии чеченцами российского подданства. Причем чеченская делегация на этот раз будет принята в Тифлисе тогдашним наместником Кавказа графом Гудовичем, а сам документ будет отослан в Петербург, в Министерство иностранных дел, для утверждения и «вечного хранения». Некоторые историки считают, что именно в 1807 г., с подписанием этого документа, Чечня была присоединена к России [9].
Таким образом, есть несколько дат — 1588, 1781 и 1807 гг., каждая из которых может быть взята за точку отсчета со времени присоединения Чечни к России. Но есть немало авторов, которые доказывали, что Чечня окончательно была присоединена к России лишь в 1859 г., с окончанием Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе [10, с. 67— 104]. Видимо, поэтому правильнее будет говорить о том, что процесс присоединения Чечни к России начался в конце XVI в. и завершился в 1859 г.
Вопрос о времени присоединения того или иного северокавказского народа к России иногда приобретает не только научный, но и околонаучный характер. Некоторые авторы всеми правдами и неправдами пытаются «удревнить» историю взаимоотношений своего народа с Россией, как можно дальше отодвинуть в глубь истории дату его присоединения к России. Так, в 2011 г. Ингушская Республика пышно и торжественно отметила 240-летие присоединения к России. Основанием послужило принятие ингушскими старшинами 4—6 марта 1770 г. присяги на верность России, которую с российской стороны принимал капитан Денисов. Однако ингушские ученые считают, что это событие было лишь формальным завершением исторического процесса, который начался в конце XVI в.
Российско-ингушское соглашение 1770 г. — первый двусторонний официальный документ, в котором отражено начало присоединения Ингушетии к России. В реальных же российско-ингушских отношениях ничего не изменилось. В Ингушетии не было официальных российских представителей и ни одного российского административного органа. Ингушей по-прежнему продолжали притеснять кабардинские и кумыкские феодалы, требовавшие с них дани. Какой-либо реальной помощи и защиты ингуши в данном вопросе от российских властей не получали. Более того, царское правительство предписало генералу Медему «не отклонять ингушей от кабардинцев, дабы не раздражать их более, так как ингуши сами сознались, что были их данниками» [11, с. 303].
В отличие от ингушских авторов, мы полагаем, что российско-ингушское соглашение 1770 г. явилось лишь началом процесса реального присоединения Ингушетии к России. Завершился же этот процесс в 1810 г., когда был подписан новый договор о принятии ингушей в российское подданство. В том же году в Назрани была построена российская крепость, началось установление российской административной власти в Ингушетии. Пример Ингушетии показывает, что нельзя привязывать к одной дате присоединение того или народа Северного Кавказа к России. Это был длительный процесс. Другое дело, что хочется устроить праздник по случаю юбилея присоединения. Но причем здесь наука?
Пожалуй, единственный случай, когда дата присоединения к России не вызывает споров — это присоединение Северной Осетии к России. В 1774 г. между российской и осетинской сторонами был подписан договор об установлении российского подданства над осетинами. Уже к концу XVIII в. началось создание российской административной власти в Северной Осетии и в последующие периоды каких-либо серьезных осложнений в российско-осетинских отношениях не происходило (если не считать восстания в Осетии в 1804 г.). Соответственно, не возникало необходимости в подписании новых документов о российско-осетинских отношениях.
Не бесспорно и время присоединения Кабарды к России. В 2007 г. в Кабардино-Балкарии был отмечен 450-летний юбилей «союза и единения с Россией», то есть за дату присоединения Кабарды к России был принят 1557 г. В том году в Москву, ко двору Ивана IV прибыло кабардинское посольство во главе с князем Канклычем Кануковым. «Итогом русско-черкесских переговоров явился военно-политический союз» между Россией и Кабардой [12, с. 57]. Но это была довольно странная «вотчина»: в Кабарде не было никаких признаков российской власти, Кабарда по-прежнему остается самостоятельной. Но военно-политическое сотрудничество действительно было. Так, может быть, правильнее будет говорить о том, что с 1557—1558 гг. начался исторически длительный процесс присоединения Кабарды к России? А фактически в середине XVI в. между Кабардой и Россией сложился военно-политический союз. Но есть и другая «серьезная» дата в российско-кабардинских отношениях — 1774 г., подписание русско-турецкого Кючук-Кайнарджийского мирного договора, согласно которому урегулирование вопроса о Ка-барде передавалось на усмотрение Крымского хана. Но тот, в соответствии с российско-крымским договором 1772 г., признавал Большую и Малую Кабарду в подданстве России. Поэтому Г.А. Кокиев не без основания писал, что «официальной датой окончательного разрешения кабардинского вопроса в русско-турецких отношениях и политического присоединения Кабарды к России следует считать 1774 г., когда Россия получила свободу действий на Северном Кавказе» [13, с. 386].
Итак, в российско-кабардинских отношениях XVI—XVIII вв. есть целый ряд дат, которые так или иначе можно считать временем присоединения Кабарды к России — 1557, 1558, 1588, 1771, 1774 гг. Но реальное установление российской власти в Кабарде началось с 1793 г. и завершилось административными преобразованиями А.П. Ермолова в 1822 г. Вывод и тут видится простой: присоединение Кабарды к России началось в середине XVI в., с 1557 г. и завершилось в первой трети XIX в. Это был длительный исторический процесс, когда обе стороны — российская и кабардинская — были заинтересованы сначала в военно-политическом союзе, а затем — и в сосуществовании в едином государстве.
Русско-дагестанские связи также имеют многовековую историю, истоки которой восходят ко временам Древней Руси. Более прозрачными эти отношения стали во второй половине XVI в.
Документально присоединение Дагестана к России вновь было оформлено в 1722 г., во время Каспийского похода Петра I. Дагестан был признан российской территорией и по международным договорам того периода: по русско-иранскому (Петербургскому) договору 1723 г. и русско-турецкому (Стамбульскому) договору 1724 г. К концу XVIII — началу
XIX в. на верность России присягнула большая часть владельцев Дагестана.
И, наконец, русско-иранский Гюлистанский договор 1813 г., с точки зрения международного права, окончательно закрепил присоединение Дагестана к России.
Как видим, и в российско-дагестанских отношениях есть целый ряд важных дат, каждая из которых, с определенными оговорками, может быть принята за время присоединения Дагестана к России: 1557, 1602, 1614, 1722, 1723, 1724, 1786, 1806, 1813 гг.
С середины XVI в., действуя преимущественно политико-дипломатическими методами, Россия сумела добиться значительных успехов в укреплении своего влияния на Северном Кавказе. Во второй половине XVI в. соглашения о вступлении в российское подданство подписали ряд адыгских, дагестанских и вайнахских владетелей, а в XVII в. обмен посольствами между горскими феодалами и Москвой принял почти регулярный характер. В то же время следует учитывать, что российско-северокавказские соглашения о подданстве горцев России часто носили формальный характер.
Во второй половине XVI—XVII вв. идет писк и испытание путей, форм и методов политики России на Кавказе. Наиболее успешными и преобладающими в этот период оказались мирные, политико-экономические методы. Переход же к преимущественно военным, силовым методам в начале XIX в., с началом правлении на Кавказе генерала А.П. Ермолова, привел к возникновению Большой Кавказской войны XIX в.
При создании колониальной системы западноевропейских стран в XVI—XIX вв. большая часть территорий Азии и Африки была захвачена метрополиями военным путем. Этого нельзя сказать о территории Северного Кавказа. При присоединении этого региона к России применялся широкий спектр средств и методов. В XVI—XVIII вв. Россия в основном действовала на Северном Кавказе мирными, политико-экономическими средствами. Военная сила использовалась лишь в отдельных случаях. При этом равнинная часть территории Северного Кавказа (за исключением Закубанья) к концу XVIII в. формально считалась в российском подданстве. Кавказская же война 1818—1864 гг. возникла как реакция местного населения на установление предельно жестких, жестоких порядков, но уже во внутренних пределах Российского государства.
Присоединение Северного Кавказа к России было длительным и сложным историческим процессом, результатом взаимного притяжения России и горских народов. При этом Россия использовала разнообразные средства и методы: политические, экономические и лишь в меньшей степени — военные.
Нам представляется, что более правильным и плодотворным было бы признать тот факт, что присоединение народов Северного Кавказа к России был не единовременным актом. Это был сложный, многоэтапный и длительный во времени исторический процесс. И подписание первого российско-горского документа об установлении российского подданства над тем или иным народом — это лишь первый шаг, начало долгого пути присоединения этого народа к России. Завершается же процесс присоединения народов Северного Кавказа к России с окончанием Кавказской войны, в 1864 г.
ЛИТЕРАТУРА1. Дегоев В.В. Кавказ в структуре российской государственности: наследие истории и вызовы современности // Вестн. Ин-та цивилизации. 1999. Вып.
2. С. 129.2. Ахмадов Я.З. Очерки политической истории народов Северного Кавказа в XVI-XVII вв. Грозный, 1988. С. 44.
3. Исаева Т.А. Политические взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией в конце XVI -первой половине XVII в. // Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией и народами Кавказа в XVI - начале XX вв. Грозный, 1981. С. 15.
4. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. Т. 1. СПб., 1869. С. 468.
5. Блиев М. Россия и горцы Большого Кавказа: на пути к цивилизации. М., 2004. С. 78.
6. Потто В.А. Кавказская война. Т. 2. Ставрополь, 1994. С. 72.
7. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 243. Л. 3.
8. Там же. Д. 286. Л. 22-23.
9. Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. 460 с.
10. Исаев С.-А.А. Присоединение Чечни к России. Аграрная политика царизма и народные движения в крае в XIX веке. Грозный, 2012. С. 67-104.
11. Бутков П.Г. Указ. Соч. С. 303.
12. История многовекового содружества. Нальчик, 2007. С. 57.13. История Кабардино-Балкарии в трудах Г.А. Кокиева. Нальчик, 2005. С. 386.
checheninfo.ru